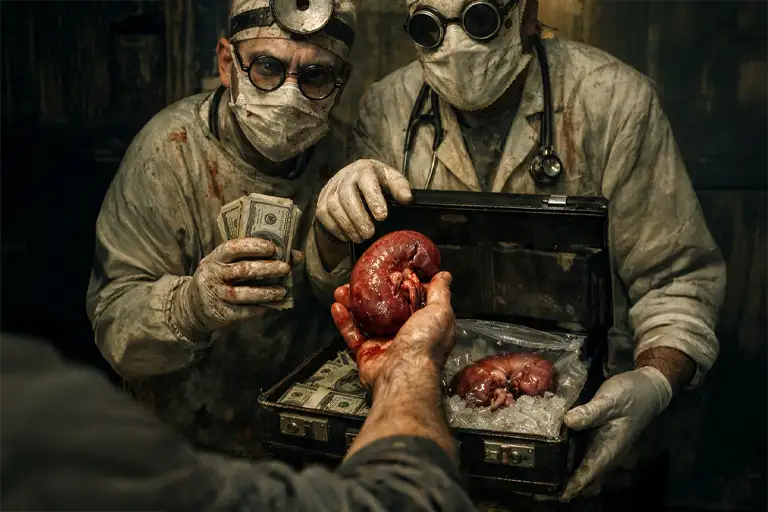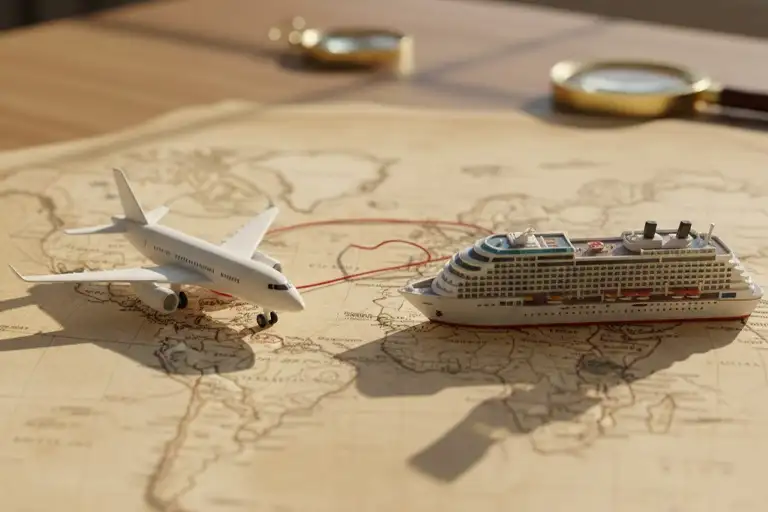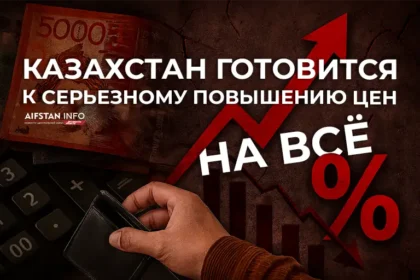Быстрое таяние ледников в горных районах Центральной Азии приводит к образованию ледниковых озёр, которые представляют серьёзную угрозу для близлежащих населённых пунктов. Их природные дамбы — морены, состоящие из льда, камней и грунта — нестабильны и подвержены разрушению. В случае прорыва мощный поток воды может уничтожить целые деревни.
Темпы таяния ледников в регионе превышают мировые показатели, рассказывает gazeta.uz. По мере накопления талой воды в ледниковых котловинах формируются озёра, удерживаемые моренными преградами. Эти естественные барьеры, оставленные ледником, не обладают прочностью: под действием растущего давления воды в них появляются трещины, что повышает риск внезапного прорыва.
Эксперты обсуждают меры по защите населения, живущего в зоне потенциальной опасности.

При прорыве ледниковые озёра вызывают паводки и сели. Потоки обладают огромной разрушительной силой. Они угрожают жизни людей, инфраструктуре и экономике и могут распространяться на сотни километров, делая проблему трансграничной. Ограниченные возможности мониторинга объёма и большое число потенциально опасных зон делают паводки, вызванные прорывом ледниковых озёр (ППЛО), одной из самых серьёзных климатических угроз в Центральной Азии.
По оценкам исследователей, опубликованным в журнале Nature Communications, около миллиона человек в высокогорных регионах Азии живут в пределах 10 км от опасных ледниковых озёр и находятся в зоне риска наводнений, вызванных их прорывом.

В Центральной Азии насчитывается более 4,5 тысяч ледниковых озёр, многие из которых образовались недавно из-за ускоренного таяния ледников. Увеличение их объёма повышает вероятность катастрофических прорывов, способных вызвать наводнения, лавины и оползни.
В одном только Кыргызстане сегодня известно о почти 2000 ледниковых озёр, из которых 368 считаются потенциально опасными. Под пристальным контролем МЧС находятся 65 озёр, которые относятся к I и II категории прорывоопасности.
Риски не носят абстрактный характер: 27 июня 2024 года в Кыргызстане прорвалось горное озеро Такыр-Тор, из-за чего пришлось эвакуировать 950 человек.
По словам Камолиддини Назирзода, заместителя начальника Центра гляциологии Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, ледник Саид Нафиси (ранее Баралмос), расположенный на территории Таджикистана, в последние годы стал крайне нестабилен. На его поверхности образуются озёра различного объёма. В тёплый сезон они частично прорываются. Только за последние пять лет зафиксировано 23 подобных случая. Три крупных прорыва произошли минувшим летом: 14 и 22 июля и 10 августа. Каждый такой прорыв сопровождается селевыми потоками, заторами в русле Сурхоба и повреждением международной трассы Вахдат-Рашт-Ляхш у границы с Кыргызстаном. При этом восстановительные работы дороги могут начинаться лишь через 10−15 суток, так как породы остаются водонасыщенными и нестабильными.

Но даже без прорыва ледниковых озёр таяние льда усиливает селевую опасность. Почти вся территория Кыргызстана считается селеопасной. В 2024 году в этой стране был зафиксирован рекордное за последние три десятилетия число селей — более 370 случаев с апреля по август. В результате погибли 25 человек, а ущерб превысил 2 млрд сомов (свыше $22,8 млн).
В Таджикистане только за три недели — с 3 по 26 мая 2024 года — зарегистрировано 256 природных чрезвычайных ситуаций, которые нанесли ущерб более чем на 80 млн сомони ($8,5 млн). Всего за год произошло 532 происшествия, разрушивших 164 жилых дома, 6 школ и детских садов, около 300 километров дорог и 66 мостов.
В Узбекистане также есть локальные ледниковые озёра. Так, в верховьях реки Пскем расположены озера Шавуркоол и Ихнач, общий объём которых превышает 4,5 млн кубометров воды — эквивалент двух тысяч олимпийских бассейнов. Их возможный прорыв угрожает почти 2000 жителей срединного течения реки. Кроме того, этот район подвержен и другим экзогенным процессам — селям, оползням и камнепадам.

Масштаб и регулярность подобных событий вынуждают специалистов и международные проекты искать адаптационные меры, чтобы снизить риски для населения и инфраструктуры.
Несмотря на накопленный опыт в снижении рисков бедствий в горных районах, прорывы ледниковых озёр требуют более скоординированных региональных усилий, так как нередко носят трансграничный характер.
Повышение устойчивости сельского населения перед угрозой ППЛО обсуждали представители научного сообщества, государственных структур стран Центральной Азии и международных организаций на конференции, посвящённой наблюдению за ледниками в условиях изменения климата. Мероприятие прошло 16 и 17 сентября в Green University, передаёт корреспондент «Газеты».
Важность осведомлённости населения
Жители горных регионов часто даже не знают, что в местах их проживания существует высокий риск схода селей и прорыва ледниковых озёр, отметили эксперты. Многие не придают значения SMS-предупреждениям МЧС, рискуя жизнями. В случае чрезвычайных ситуаций люди не всегда знают эвакуационные маршруты. В связи с отсутствием информации бывали случаи, когда местные жители разрушали специально построенные каналы для отвода воды. Эти пробелы в осведомлённости делают население ещё более уязвимым перед природными угрозами.
Именно поэтому специалисты акцентируют внимание на необходимости развития систем раннего оповещения и работе с сообществами. Эту задачу решает региональный проект Glacial Lake Outburst Flood Central Asia (GLOFCA), направленный на снижение рисков ППЛО через системы раннего оповещения, повышение готовности сообществ и региональное сотрудничество. Проект реализуется Региональным офисом ЮНЕСКО в Алматы при поддержке Адаптационного фонда. Сейчас проект сосредоточен в семи приоритетных долинах:Есик и Талгар в Казахстане, Ала-Арча и Тон-Тосор в Кыргызстане, район ледника Баралмос в Таджикистане, а также Пскем и Тепар в Узбекистане.

В каждой стране проект работает напрямую с профильными ведомствами. В Узбекистане это Центр гляциальной геологии Института геологии и геофизики, Научно-исследовательский гидрометеорологический институт (НИГМИ) и Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Диана Арипханова, координатор проекта GLOFCA, отметила, что в вопросах снижения рисков важно работать напрямую с сообществами. Для этого команда проекта проводит анкетирование и опросы, чтобы выяснить уровень осведомлённости жителей горных районов.
Отдельное внимание уделяется гендерному подходу. «Во время собраний с сельским населением с нами в основном общаются мужчины, а женщины молчат — это связано с культурными особенностями. Поэтому мы начали проводить отдельные встречи с женщинами и детьми и выяснили дополнительные проблемы и переживания. Например, женщины поднимали вопрос: как быть людям с инвалидностью», — рассказала Арипханова.
При этом важно учитывать и знания самих жителей. «Мы узнали, что во время селевых потоков местные жители традиционно поднимаются выше в горы. Поэтому при разработке тренингов и эвакуационных маршрутов мы стараемся учитывать такие знания и особенности», — добавила эксперт.

На тренингах людям объясняют, что такое прорыв ледникового озера и сели, почему они происходят и как проходят. Их учат действиям до и после чрезвычайной ситуации, а также подготовке «тревожного чемоданчика».
Опыт показывает, что после грамотной информационной работы население начинает само предлагать решения. В Казахстане, например, жители обратились с просьбой об установке дамбы для защиты от наводнений.
Информация как главный ресурс
Старший исследователь Международного института водного управления Искандар Абдуллаев также отметил, что сегодня одной из главных потребностей сельского населения становится информация.
«Ещё 20 лет назад, когда я ездил в горные районы и общался с фермерами, они в первую очередь говорили: нам нужна техника, нужны минеральные удобрения. А недавно в Казахстане, в Жангузкуме, мы спрашивали у фермеров, чего им не хватает больше всего. И все ответили: информации. Им нужны прогнозы погоды, понимание, как меняется ситуация, чтобы знать, чего ждать завтра и когда выходить в поле», — рассказал эксперт.
По его словам, это говорит о том, что у сельчан есть реальный запрос на результаты научных исследований. «Если раньше считалось, что фермеров нужно учить, как вести хозяйство, то сейчас они и сами всё знают. Им нужны знания о климате и изменении условий, чтобы адаптироваться».
Абдуллаев подчеркнул, что важно переводить научные данные в доступную форму и выстраивать координацию между исследователями, государственными структурами и местными сообществами. При этом особая роль должна отводиться местным властям — махаллям, так как именно им люди доверяют больше всего.

«Мы все участвуем в разработке национальных стратегий по климату и снижению рисков бедствий. Но должны появляться и локальные программы — для конкретного кишлака или аула. Ведь именно там происходят засухи, подтопления и реальные потери. Поэтому следующий шаг — сместить внимание на решение местных проблем конкретными людьми и на местах», — резюмировал эксперт.
Особенность ледниковых озёр Центральной Азии
Искандар Абдуллаев пояснил «Газете», что в отличие от Гималаев или Анд, ледниковые озёра Центральной Азии меньше по размеру, но более динамичны. Они быстро формируются и расширяются, что значительно осложняет их мониторинг и оценку рисков: невозможно заранее сказать, останется ли озеро стабильным или исчезнет, а также оценить силу возможного паводка при прорыве.
Дополнительные трудности создаёт высокогорное расположение и ограниченный доступ к этим водоёмам. Даже при детальном исследовании нет гарантий, так как озёра остаются слишком динамичными.
«Сегодня озеро есть, а завтра его может не быть. Или наоборот — оно быстро увеличивается в объёме, и мы не всегда знаем, какой именно риск оно несёт», — отметил эксперт.
Абдуллаев подчёркивает, что точных прогнозов, сколько, где и в каком объёме появятся новые озёра, не существует. «Очевиден лишь один тренд — ледники продолжают таять, и это значит, что появление ледниковых озёр и паводки от их прорывов неизбежны», — добавил он.

К тому же многие озёра в регионе формируются за слабыми моренами или тающими ледяными дамбами, что не всегда фиксируется спутниковым мониторингом. Они могут быстро наполняться и прорываться без предупреждения, особенно после обильных осадков или аномальной жары
В этих условиях речь идёт не столько о предотвращении, сколько об адаптации. Главная задача — укрепить устойчивость сельских сообществ, чтобы снизить ущерб от будущих катастроф, а также развивать региональное сотрудничество.
Мониторинг
Для снижения рисков страны Центральной Азии инвестируют в системы раннего оповещения — спутниковые данные, датчики речных потоков, локальные наблюдения и автоматизированные сигналы. Своевременное предупреждение о возможном наводнении позволяет лучше планировать защиту населения и инфраструктуры.
Например, в Кыргызстане всего за год (август 2020 — август 2021) сформировалось озеро Акпай, объём которого достиг 300 000 м³ воды — эквивалент 120 олимпийских бассейнов. Оно находилось за нестабильными ледниковыми отложениями, создавая угрозу прорыва.
Благодаря предварительным исследованиям власти заранее выявили риск и ограничили доступ туристов. Когда в августе 2021 года произошёл прорыв, инфраструктура пострадала, но человеческих жертв удалось избежать.
Одной из ключевых задач регионального проекта GLOFCA также является мониторинг ледниковых озёр. Специалисты используют методы машинного обучения и спутниковую радиолокационную съёмку: инструмент Lake Mapping Toolbox позволяет вести круглогодичный мониторинг и регулярно обновлять данные.

Кроме того, в каждой стране устанавливается хотя бы одна система раннего оповещения. «Наши датчики и сенсоры напрямую передают данные в Гидромет, а оттуда информация поступает в МЧС. Далее дежурный сотрудник на местах оценивает ситуацию и решает, есть ли угроза для людей», — рассказала «Газете» Диана Арипханова.
Однако, по словам Искандара Абдуллаева, точные прогнозы по ледникам делать сложно.
«Мы можем прогнозировать, что в следующем году какой-то ледник растает на определённый процент. Но это не гарантия. Все модели требуют времени и большого объёма данных. К тому же это высокогорные зоны, где вести наблюдения крайне сложно. В большинстве случаев мы вынуждены использовать дистанционное зондирование. Это хороший метод, но он не заменяет прямой доступ на места».
Вовлечение местного населения
В прошлом году проект GLOFCA установил метеостанции для школ в Пскеме и Тепаре. После этого прошли тренинги для школьников: теперь они умеют собирать данные и самостоятельно вести наблюдения.
«Ребята измеряют температуру воздуха, фиксируют количество осадков с помощью осадкомера, а затем сами строят прогнозы и выявляют тренды, — рассказала „Газете“ координатор проекта Диана Арипханова. — Это формирует у них понимание процессов и навыки анализа».

Научный сотрудник Немецкого исследовательского центра геонаук Аброр Гафуров рассказал, что учёные также всё чаще вовлекают местных жителей в наблюдения за снежным покровом, поскольку охват метеостанциями остаётся недостаточным. Добровольцы отправляют данные о толщине снежного покрова, фотографии и геолокацию через специальный Telegram-бот.
За последний год жители Центральной Азии направили почти тысячу сообщений. Эти данные помогают уточнять спутниковые измерения и впервые составлять детальные карты снежного покрова. «Совпадение с данными спутников составило 82%. Это отличный показатель и яркий пример того, что жители гор могут играть огромную роль в повышении точности прогнозов», — отметил эксперт.
Адаптационные меры
По словам Дианы Арипхановой, помимо мониторинга GLOFCA развивает и адаптационные меры. Например, в Таджикистане строят дополнительную инфраструктуру для связи жителей отдалённых сёл с миром в период селей.
Эксперт рассказала, что в районе ледника Баралмос сильные подтопления регулярно блокируют основную международную трассу, местные жители остаются отрезанными от города.
«В качестве адаптационной меры мы разрабатываем там альтернативную дорогу, чтобы люди не оказывались в изоляции», — пояснила она.

Среди других мер — посадка деревьев. «Уже в октябре на наших пилотных территориях в Узбекистане мы вместе с жителями будем высаживать деревья. Это помогает укреплять почву и снижает риски селей. Для людей участие в таких акциях становится частью понимания: да, здесь есть угроза, и мы можем вместе противостоять ей», — отметила Арипханова в беседе с «Газетой».
Необходимость координирования действий
Искандар Абдуллаев подчёркивает: при нынешних угрозах необходима региональная координация в области мониторинга и реагирования. В беседе с «Газетой» он напомнил о проведённом в 2017 году исследовании Регионального экологического центра Центральной Азии (в тот период он возглавлял организацию). Тогда эксперты подсчитали, что при сотрудничестве стран региона в вопросах воды и экологии ежегодная экономия могла бы составлять более 4 млрд долларов.
«Если бы наш регион координировал действия и обменивался данными в водном секторе, мы ежегодно выигрывали бы 4 млрд долларов. В противном случае каждая страна вынуждена готовиться к угрозам отдельно — строить собственные водохранилища, инфраструктуру, службы спасения. Это дороже и неэффективно. Ведь процессы в трансграничных речных бассейнах взаимосвязаны от истока до устья. Решить проблему локально невозможно — будь то нехватка воды, засуха или наводнение. Обмениваясь информацией, мы спасаем не только соседей, но и самих себя», — отметил Абдуллаев.

Диана Арипханова также подчеркнула «Газете», что основные риски возникают именно на приграничных территориях. Поэтому обмен данными и создание единой базы мониторинга способны существенно повысить безопасность и даже спасти жизни.
Однако остаётся серьёзное препятствие: данные о ледниках, ледниковых озёрах и водных ресурсах традиционно относятся к информации национальной безопасности. Страны региона пока неохотно делятся этими данными, и здесь особенно важно формировать доверие. По её словам, положительным сигналом уже являются появляющиеся региональные центры, которые в будущем могут перерасти в общую систему данных.