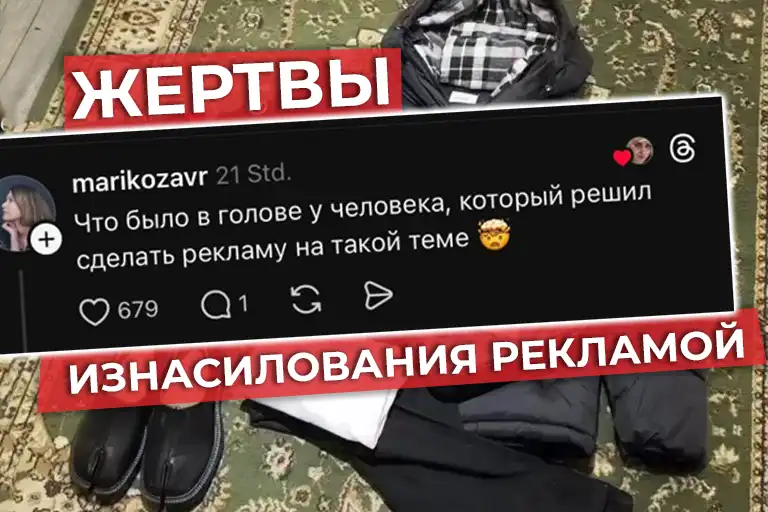«С Анваром Джураевым мы встречаемся в ресторане Moti на метро «Ойбек». Он открыл его вместе с другом-ресторатором после возвращения в Ташкент из Алматы.
Изменения в Узбекистане подстегнули в нём желание самому привнести что-то в развитие страны. Делать это получается через свои интересы и проекты, потому что, как говорит Анвар, «каждый лучший в своём деле», — рассказывает Анвар Джураев в интервью проекту «Музыка махаллей»
В урбанистику он не особо вовлечён и честно признаётся в этом, хотя культура — её неочевидная составляющая. Машина обеспечивает ему ощущение большей безопасности, чем пешие прогулки, поэтому в заботы пешеходов он сейчас не вовлечён — не то что в пандемийный год, когда приходилось вдоль и поперёк изрезать город с детской коляской. Ничто так не отрезвляет не интересующихся градостроительством, как длительные прогулки с маленьким ребёнком.
Анвар производит впечатление ровного и спокойного человека. Его сегодняшний вайб не вяжется с воспоминаниями о ташкентской рок-сцене начала нулевых, когда он был артистом с длинными волосами и бесплатно выступал в экстравагантной одежде. Говорит, альтруизм иссякает с возрастом. Юношеский пыл сменяется расслабленностью, с которой продолжаешь неотступно идти к целям.
Он много рассуждает о музыке, концертах и культуре, об образовании, запретах и негласных правилах. Их глубокий отпечаток заметен не только в креативной индустрии, но в самой нашей жизни — воспитании, человеческих договорённостях и городской среде.



В последней Анвар видит больше позитивных изменений, чем в культурной жизни. Но не будь их и в его поле деятельности, он бы вряд ли вернулся, чтобы внести в развитие культуры свой вклад.
О родине и свободе нулевых
Я очень часто задавал себе вопрос «Где Родина?». Я родился в Учкудуке в семье военного, мама была врачом. Мне, наверное, и месяца не было, когда мы переехали в Сургут (город в Ханты-Мансийском автономном округе, Россия — ред.). Прожил там до класса четвёртого-пятого. Запомнил этот город как центр нефтедобычи и вечной зимы. Приличного лета там никогда не было: всегда в курточке, шапочке. Развлекались как российские дети — в лес ходили, грибы собирали, бегали за белками. Наши уроки физкультуры состояли только из занятий на лыжах и коньках. Когда потом мы переехали в Вабкент (Бухарская область — ред.), сдал лыжи и хоккейную форму в фотосалон. С тех пор не вставал ни на лыжи, ни на сноуборд. Не люблю экстремальный спорт. Адреналина мне хватает и на сцене.

Я всегда знал, что, кроме музыки, меня ничего не интересует. Не исключаю, что научился играть на гитаре, дабы нравиться девушкам. Конечно, родители не сразу меня поддержали. Папа тогда уже вышел на пенсию. Они с мамой начали заниматься челночным бизнесом. Это был развал Союза, тотальная нищета, в которой деньги на двое «Жигулей» превратились в килограмм мяса. Не было другого выхода. Они ездили в Россию за товаром, здесь его продавали. Потом мы переехали в Ташкент и года три торговали посудой на посудном базаре. В наше время там были целлофановые палатки, сделанные из г**на и палок. А сейчас это тёплые бутики посуды. Но то время всё равно было прекрасным, потому что у нас всегда было много денег.
Родители дали мне деньги на запись песен, хотя поначалу считали, что заниматься музыкой — это полный идиотизм. У папы были друзья прокуроры, всякие высокопоставленные люди. Он говорил: «Поступишь в юридический и будешь работать в прокуратуре, будешь государственным мужем». А мама сказала: «У нас есть определённая сумма. Можем подарить тебе машину, устроить в институт или используй, как хочешь». Мы же настолько были увлечены музыкой, что я не хотел ни машину, ни в институт. Но если бы я обоср**ся с этими песнями, х**н бы получили ещё поддержку.
У нас были хиты, была слава, но ни х**на не было денег. Мы ходили на Тезиковку и покупали себе вещи в секонд-хенде. Мы носили сумасшедшую одежду. 20 лет назад на концертах «Тароны» певицы надевали всё супероблегающее, шортики, декольте. Ни у кого это не вызывало вопросов или осуждения.
Мы записали Yomg’ir и Meni izlama, и они обе выстрелили. У нас не было другого выхода, кроме как выступать. С двумя песнями мы ушли в тур по Узбекистану. Была группа Jonim и мы. Мы пели две песни, они — 12. И нам «Тарона» сказала, что надо записывать альбом.
Но на музыке в те годы нельзя было заработать — раньше не платили. Звонили с «Узбекконцерта» (раньше он назывался «Узбекнаво»): «Съездите туда, спойте там». А там чей-то племянник, сын, дочь. И всё бесплатно.
У нас были хиты, была слава, но ни х**на не было денег. Мы ходили на Тезиковку и покупали себе вещи в секонд-хенде. Там можно было найти стильные джинсы, американские футболки с классными принтами. Мы носили сумасшедшую одежду, я даже в юбке выступал в Алматы. В нулевые это было возможно и в Узбекистане, но не сейчас. Когда в прошлом году у нас был концерт в «Дружбе», несколько фанаток хотели закидать нас лифчиками. А мы не разрешили, иначе нас бы потом «Узбекконцерт» вызвал, это был бы скандал. А 20 лет назад на концертах «Тароны» певицы надевали всё супероблегающее, шортики, декольте. Мы выходили в кожаных штанах, шляпах, ковбойских сапогах. У меня были волосы до плеч. Ни у кого это не вызывало вопросов или осуждения.
Но монетизировать творчество было невозможно. Нам было по 23-25 лет, и мы должны были решать, что делать в жизни. Сидеть на шее родителей в 25 лет — такое себе занятие. Тем более, когда ты известный, тебя любят девочки, и ты хочешь пригласить в ресторан фанатку или красиво одеться, потому что не можешь выступать в лохмотьях. Нам нужно было либо менять своё направление в сторону свадеб, либо искать другой выход.
В Алматы мы собрали полноценный бэнд и активно выступали, вошли в струю музыкальной индустрии. Играли на фестивалях, где было и по 100 тысяч народу. Это были мероприятия, которые устраивают «Эсквайр» и «Яндекс». Я думаю, в Ташкенте такие тоже обязательно появятся. Об этом говорит вход в страну больших компаний. Они генерируют фестивали и другие активности. И государство у нас делает очень большие фестивали, вкладывает в них ресурсы.
Об ивентах и «убийстве» артистов
У меня пока одно заведение в Ташкенте. Я не сильно ушёл в бизнес, основной деятельностью всё равно остаётся музыка. Но мы же живые люди: у нас есть интересы, мы во что-то вкладываемся, что-то получается, что-то нет. Сейчас хочу открыть ивент-агентство с партнёрами из Казахстана. Уровень существующих агентств мне нравится, но у нас всё это на каком-то местечковом уровне. Выражается он не только в типичном оформлении и свете, но ещё и в повсеместной безответственности.
У нас же менталитет такой:
«Ака, давайте поговорим, плов покушаем, что-нибудь, худо хохласа, решим. Всё будет классно».
Но чёткости нет, и ты совершенно не понимаешь, на что тебе рассчитывать. В конце концов, люди рассир**тся, потому что не смогли сказать «нет» и выполнить обязательства тоже не смогли. А ты же не просто надеешься на это вроде бы «да». Ты же строишь планы. Допустим, мы с аранжировщиком договариваемся, что он отправит аранжировку через неделю. Основываясь на этой договорённости, ты договариваешься с фотографом, с операторами о съёмке клипа, менеджерами радиостанций и телеканалов о ротации трека и клипа, потому что знаешь, что принесёшь песню. А потом аранжировщик тебе говорит, что начнёт завтра. И разницы нет, какая у него причина. Он даже не предупредил об этом.

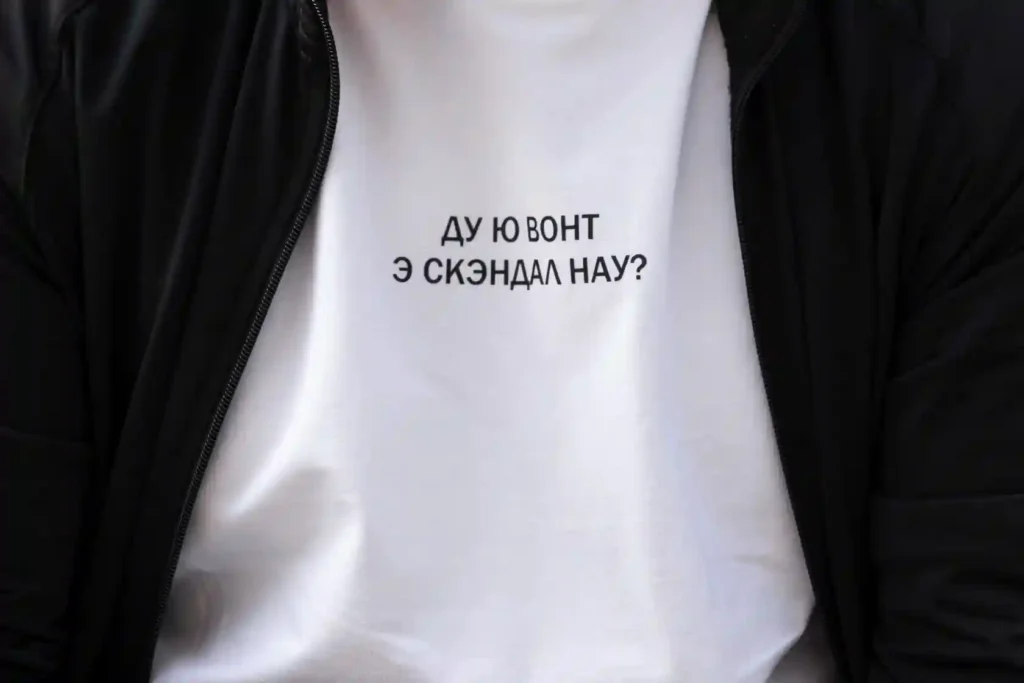
Или приходишь на площадку, а там просто нет звука, потому что «помощник забыл, но через полчаса будет, ака». В итоге ты ждёшь полтора часа и всё идет наперекосяк: артисты не могут сделать саунд-чек, начинается мероприятие, артист обсир**тся по полной, заказчик жалуется на артиста и общее впечатление от ивента остаётся хр***вым. Хотя артист старался.
В последний раз в Узбекистане я сталкивался с такой безответственностью всегда. В Казахстане тоже так было раньше, но там стали работать более-менее структурировано, потому что артисты требуют работать по таймингу. Там ивент-агентство понимает, что если не выполнит обязательства, не получит свои бабки. За что агентство может получить штраф? Если прокатчик звука запорит или оформители не сделают свою работу. Поэтому они не работают с ненадёжными подрядчиками и подрядчики тоже стараются.
У нас к этому уже приходят. Мы развиваемся и никуда это не денется. Я очень рад, что в Узбекистане сейчас много релокантов, больших компаний. Они структурируют наше общество и учат ответственности, учат считать время.

В текущих условиях мы по-разному выходим из ситуации. Когда мы делали концерт в «Дружбе народов», пригласили своего звукорежиссёра из Москвы Диму Куликова, потому что в Узбекистане звук всегда был проблемой. Дима всех звукарей затр**ал: «Поменяйте, поставьте, я же вас просил». Во-первых, он готовился к концерту за два месяца. Спрашивал нас: «На обороте во сколько градусов бас-гитарист будет стоять от барабанщика или сцены», потому что звук зависит от таких вещей.
Тогда мы собрали два зала по 4500 человек. Но культуры концертов у нас нет. Люди уходят до последней песни, чтобы не попасть в пробку. И артист вынужден доигрывать в полупустом зале. Раньше поход на концерт был для нас каким-то событием. Мы фанатели от исполнителей, а сейчас даже бесплатно не идут на концерты. Может быть, потому что очень много хр***вого контента. Хотя именно такой имеет массовую аудиторию.
Осенью этого года планируем собрать «Хумо арену», если найдём финансирование. Без спонсоров концерты невозможно проводить. Они не приносят денег, не окупаются, потому что билеты стоят слишком дёшево. Отбить можно «плюсовой» концерт, потому что там затрат будет от силы 10 тысяч долларов. Наш же концерт в «Дружбе» стоил 100 тысяч, а заработали мы всего 5000. И это с учётом всех скидок, которые мы получили за живое исполнение. У «Дружбы» политика такая, что если поёшь под фанеру, то платишь 14 млн сумов за вечер аренды зала, а если живое исполнение — 7 млн сумов. Для огромного концертного зала на почти 5000 человек это копейки.
Поэтому состояние дворца так себе. Государство не выделяет денег на его развитие, потому что просто не до этого. Если бы его продали каким-нибудь частникам, его бы быстренько привели в порядок, сделали бы классный ремонт, сиденья, оборудование. Аренда зала тогда стоила бы от 5000 долларов.
Но это, конечно, убьёт артистов — не будет всей этой шушеры. Останутся нормальные артисты, которые знают, что соберут хотя бы один день качественной публики и продадут билеты не за 50 тысяч сумов, а хотя бы за 10-15 долларов. Хотя минимальные ставки на европейские концерты — это 100 долларов.
Столько и должны стоить билеты, чтобы концерты окупались. И люди должны хотеть купить их за такую цену. Почему мы едем на Стинга, Weeknd, Робби Уильямса, покупаем билеты на самолёт, на концерт, оплачиваем отели, делаем всё, чтобы послушать их вживую? Я думаю, дело не только в том, что у нас на это есть деньги, а потому что в песнях этих артистов есть ценность. Не будем говорить о том слое населения, у которого нет денег на это. Понятно, что тем, у кого первостепенные потребности не закрыты, ср*ть на концерты. Обогащаться культурно — это роскошь. Поэтому давайте говорить о том слое населения, у которого эти потребности закрыты. Они должны видеть в музыке ценность. Песня должна им напоминать о любви, каких-то событиях.
О цензуре и специфике музыкальной индустрии в Узбекистане
Я бы упразднил «Узбекконцерт» как главного цензора. Чтобы музыка была качественной, нужно отказаться от цензуры. Разделение музыки на дозволенное и недозволенное убивает качество и саму музыку. Любая музыка прекрасна. Понятное дело, что есть оценка качества. Вы можете купить куртку за 300 тысяч сумов или за 3000 долларов. Они будут отличаться по качеству, но обе имеют право на существование.

Изменения в стране уже сказались на креативной индустрии, музыкальном разнообразии. Сейчас даже свадьбы проходят по-другому. Выступают рэперы, фольклор. Появилось много талантливой молодёжи. Но артистам всё ещё трудно зарабатывать. У нас не работает авторское право, нет туровых агентств, туры не делаются вообще. Konsta и Рухсора пытаются что-то делать с турами. Вот они молодцы. Но на формирование этой культуры уйдут годы.
В Европе или США талантливый парень может выпустить альбом и получить свои 10 млн долларов авторских начислений в год. Его возьмёт лейбл, предложит сделать мировой тур, заплатит ему 100 млн долларов. И артист уже не парится. Он занимается музыкой и не думает, как прокормить семью.
У нас же специфика рынка другая: люди зарабатывают на свадьбах. И этот феномен возник из-за пагубного влияния цензуры и запретов. Понятно, что хотят запретить каких-то фриков, боятся вредного влияния на общество. Но фрики всегда были и будут. Когда есть фрики, есть и Rolling Stones.
Допустим, в Казахстане нет никаких запретов. Поэтому их артисты популярны и гастролируют по миру — Ирина Кайратовна, A’Studio, Dimash. Они поют всё, что хотят, и делают настоящее творчество. И они знают, что потратят пять лет своей жизни в подвале на студии, сделают классный контент, который выстрелит, принесёт деньги. А у нас всё свелось к туйскому сегменту — единственному не запрещённому, стерильному, к песням про любовь-морковь.
Это исправится, если из кино, телевидения и музыки уйдёт цензура, заработает авторское право. Должна появиться думающая осознанная публика, вникающая в мотивы и тексты. Музыка — это образование. Когда человек слушает многих композиторов, коллективы, он ориентируется в музыкальной среде, может сочинить намного более качественный продукт, глубокую музыку. Понятно, конечно, что 10-летний ребенок не восхитится Дворжаком, но у него это отложится. Мы с психологом говорили, что если детей бьют в раннем возрасте, они могут не запомнить это как событие, но запомнить на эмоциональном уровне. Я убеждён, что с музыкой точно так же. Ребёнок может не восхищаться увертюрами в 10 лет, но всё отложится, и в 18 лет он г**но не сможет слушать.
О ташкентском Сити и ситуации на дорогах
Прогулку по Ташкенту мы начинаем в двух шагах от Moti — на бульваре «Голубые купола», который Анвар Джураев называет «аллейкой». Здесь он иногда гуляет с товарищами, катает детей на семейном велосипеде, рассматривает безделушки у продавцов местной барахолки. Ими он не особо интересуется, но не отвлечься на вещицы трудно. Говорит, из старья его могут заинтересовать только музыкальные инструменты, потому что интересно, кто на них играл, какие сочинялись мелодии. На улице его часто узнают поклонники. Он общается с ними как с давними знакомыми, делает фото на память и вид, будто помнит, когда виделись в последний раз.





Я не люблю открытые транспортные средства. Самокаты, велосипеды и скутеры небезопасны. Хотя в Москве иногда беру самокат и катаюсь где-нибудь в районе ВДНХ. Там мне нравится гулять по центру, зайти в Александровский сад или Зарядье. В них очень чисто, и это, наверное, первое, что приходит на ум при сравнении ташкентских парков с московскими. Там люди соблюдают чистоту, можно полежать на траве. А у нас часто плюются. Что бы я улучшил в Ташкенте — так это ситуацию с плевками и поведение водителей.

В Узбекистане нам далеко до транспортной безопасности. У нас совершенно нет культуры вождения и уважения на дорогах. Вот все, например, жалуются на камеры, называют их чьим-то бизнесом. Я попадаю на камеры максимум два раза в год. Если ты не нарушаешь, что повесят эти камеры, что не повесят — всё равно. Я помню, когда в Алматы только начали появляться камеры, многие считали их бутафорией. Так мне однажды пришло 18 или 19 штрафов с одной камеры возле дома. Это мощно дисциплинирует. Дисциплина — это про безопасность.
Мы делали с Констой и страховой компанией Gross клип на песню Yashagim Kelar. Идея была показать настоящих пострадавших в ДТП. Смысл этого клипа в том, что можно компенсировать стоимость машины, имущества, но не здоровья. Об этом нужно помнить.
Пешеходом я не чувствую себя в безопасности. Гуляю, в основном, в парках. Бывает, конечно, оставляю здесь, на «аллейке», машину и иду через театр Навои к Бродвею, оттуда до сквера. Мне нравится здесь дыхание центра, концентрация людей, уличные музыканты. Всегда оцениваю их игру и оставляю деньги. Надо поддерживать. В конце 90-х музыкантов на улице было больше, чем сейчас. Тогда и субкультур было много, а потом там запрет, тут запрет, и всё это ушло. Их возвращение теперь радует.

Когда я уехал в 2004-м в Алматы, Ташкент сильно ему уступал. В Казахстане был прогресс, в страну заходили известные бренды, строились хорошие торговые центры, люди тратили деньги на культуру. Так было, наверное, года до 2017-го. Сейчас ташкентский вайб мне больше нравится. Думаю, у нас очень большое будущее, если мы будем идти так же правильно экономически и политически.
Анвару нравится гулять в Сити. Мы идём к нему дворами вдоль улицы Афросиаб. Он удивляется их самобытности, зелени, тишине, канавкам. Гадает о функции давно построенных двухэтажек. Открывает для себя набережную Анхора и спрашивает, почему не водил сюда девушек до переезда в Алматы.

Мы с женщинами гуляли хр*н его знает где, — вспоминает он. — Я жил на Алгоритме. И поскольку у нас никогда не было бюджета, проще было гулять по Чиланзару. Мы доезжали на маршрутке до метро “Чиланзар” и оттуда шли пешком до парка Мирзо Улугбека. Летом купались в тамошнем озере с друзьями. Когда мы ещё не были артистами, нам хотелось привлечь к себе внимание девушек. Тогда в парках, на Бродвее были такие столы-караоке. На них стоял телевизор образца такой бандуры, пульт и два микрофона, под столом — колонки. Я всегда нормально пел, поэтому собирались девчонки, и так слово за слово — «классно поёте, давайте ещё одну» — мы и знакомились.





Сити, я считаю, получился прекрасным местом. Здесь какой-то уголок, как будто в Дубае находишься. Здесь классные сады, инфраструктура, торговый центр, можно с ребёнком гулять, можно отпустить ребёнка. Как-то безопасно. Жена всегда говорит: «Мы должны взять квартиру в Сити».
На месте Сити была махалля, но я в ней никогда не был. Сити приносит сумасшедшие деньги, впечатления туристам, налоги, рабочие места. А что та махалля могла дать стране, инвестиционному климату? Она была знаковой? У нас до хр*на наследия, которое нам бы раскрутить.
Взять хотя бы самые известные объекты — Регистан, Арк и Ичан-кала. Их недостаточно знают. Вот Эйфелеву башню или Статую Свободы распиарили так, что к ним стремится весь мир. Я не вижу в них ничего уникального, но люди хотят посмотреть на эти символы, приносят деньги в бюджет этих стран. Я ни в коем случае не хочу обесценить Эйфелеву башню или Статую Свободу. Но я считаю, что у нас намного более интересное и богатое наследие даже с точки зрения дизайнерской задумки.
Надо научиться пиарить то, что мы имеем. Вот американцы могут из всего сделать шоу и правильно продать статую или президентские выборы. У каждого штата есть своё прозвище и символ. Они находят продолжение в мерче, почтовых марках, стелах во въезде в город. Это ведь тоже кем-то было придумано. Это может быть дорого, но в долгосрочной перспективе обязательно окупится.
О возвращении в Ташкент
Одним из факторов моего переезда в Ташкент был алматинский воздух. Я сбежал от него, потому что чувствовал себя плохо, у меня болело горло. В Алматы это бедствие. А теперь и Ташкент в первых строчках по уровню загрязнения воздуха, хотя физически я здесь этого не ощущаю.

В целом у меня было намерение вернуться, потому что обстановка в стране сменилась: всё задышало, закрутилось. Меня это приятно удивило. Я приехал работать, и тут грянул ковид. Тогда сын ещё был в коляске, и я ощутил эту разницу между Алматы и Ташкентом. У нас никто не пропускал на дорогах, на пешеходных переходах. Не было нормальных съездов, пандусов. А сейчас уже появляются хорошие проекты по переустройству города, дорогам и тротуарам. Заставляют создавать условия.
В любом городе главное — поймать его настроение. Мне одинаково хорошо и в Ташкенте, и в Алматы, и в Москве. Я бы не сказал, что где-то лучше. Поэтому, наверное, сложно ответить на вопрос «Где Родина?». Я родился в Учкудуке, часть жизни прожил в Сургуте, юность — в Вабкенте и Бухаре, молодость — в Ташкенте и Алматы. Мне одинаково комфортно, куда бы я ни приехал.
Источник фото: gazeta.uz